Борис Шергин - Поморский сказ "Для увеселенья" (о братьях Личутиных) | Текст песни
Такие истории в Поморье не редкость. Об одной из них книга «Приключения четырех российских матрозов к Ост-Шпицбергену бурею принесенных», рассказывающая о промышленниках, проведших на Шпицбергене 6 лет.
А что сегодня? По-прежнему популярен и почитаем во всем мире и в России Робинзон Крузо, а вот о наших героях — Алексее Инкове, Хрисанфе Инкове, Федоре Веригине, Степане Шарапове — преодолевших островное пленение, не сломленных заполярными стужами и ночами, вспоминают мало.
__
Этот рассказ – на самом деле сказ, и перед нами начинает вырисовываться образ рассказчика. Это помор и знаток ближайших морей, ведь недаром его управление географии «наряжает» его с капитаном Лоушкиным «ставить приметные знаки» на берегу. Рассказчик узнается по характерному для творчества Шергина смешению стилей («избыток деревянных аллегорий»), ошибок в употреблении фразеологизмов («одни чертежи остались на посмотрение потомков»), неподражаемой поэтике северного сказа.
Язык рассказчика изобилует также словами поморского диалекта, мореходными и географическими терминами. Рассказчик Шергина рассчитывает на слушателей-поморов, своих земляков, коллег и современников (конец XIX в.). Так «море Мурманское» - это Баренцево море.
Одна из весенних льдин перегородила мореплавателям привычный и наиболее безопасный путь по Терскому фарватеру. В семидесятых годах XIX века ледоколов еще не было, и кораблю пришлось обходить льдину с востока, рискуя нарваться на мель. Теперь ясно также и почему на востоке от Терского берега «стали попадаться отмелые места», в том числе и каменные островки, среди которых старик рулевой узнал и Личутинский корг, то есть с поморского: каменная грядка, отмель.
Знакомство с лоцией Белого моря объясняет также одну из причин, по которой у братьев было мало надежды на вызволение с острова. Беда случилась в Семенов день – то есть 14 сентября, в один из последних дней навигации на Белом море. С сентября оно становится опасным для мореплавания, тем более в «неблагоприятный», по словам рассказчика, год. А если учесть еще и удаленность Личутинского корга от Терского и Канинского фарватеров, по которым последние корабли могли возвращаться в становища, то можно понять, что шансов у братьев фактически не оставалось.
Символ в сказе играет еще большую роль, когда рассказчик доходит до описания «Личутинской доски». Здесь мы сталкиваемся с древней символикой смерти – тонущий корабль и перевернутый факел. Тут же якорь – символ надежды и спасения (спасения в мире ином и надежды на жизнь вечную). И феникс – воскрешение. Думается, рассказчик не случайно заостряет внимание слушателей на символах. Ведь через них мы видим жизненный и духовный путь братьев Ивана и Ондреяна. От молодости и силы, через храбрость – к спокойному приятию смерти и впоследствии – к надежде на воскресение и жизнь вечную. Тем более удачным видится этот символический прием рассказчиков, что речь идет о художниках.
Можно было бы предположить, что название рассказу дала исключительно строчка из послания на личутинской доске, что это слова, от которых капитан Лоушкин расплакался. Действительно, какое может быть увеселенье, когда ты осознаешь неизбежность скорой своей смерти?! Из контекста послания понимаем, что художественное оформление автоэпитафии было затеяно для того, чтобы избежать уныния – один из самых тяжких грехов в православии. Можно назвать это и увеселеньем, то есть способом развеять тоску.
Но видится в этом слове и другой смысл, а также и другая задача, которую поставили себе братья. Ее было бы трудно понять, если бы не случай с рассказчиком и капитаном, который мы рассмотрели выше. «Веселье сердечное» - это не совсем не то веселье, которое можно отнести к временным эмоциональным состояниям, недаром и сказ кончается словами о том, что этого веселья не потерять никогда. Это веселье далось рассказчику как прозрение, как переход на новый уровень бытия, благодаря таинству, а оно в свою очередь сложилось как из труда проделанного рассказчиком, так и из жертвы, принесенной братьями Личутиными. Ведь это действительно жертва – посвятить свои последние часы, страдая от голода, холода и жажды, посвятить их прекрасному, а если смотреть глубже – посвятить их человеку. Вся проделанная братьями работа – для того, чтобы вызвать в людях это «веселье сердечное», веселье от осознания духовного величия человека.
Борис Шергин еще тексты
Сейчас смотрят
- Борис Шергин - Поморский сказ "Для увеселенья" (о братьях Личутиных)
- Leann Rimes - Cant fight the moonlight (Coyote Ugly)
- ATL (Aztecs) - 6. Мерзлота
- Ля Ли - Путь (Acoustic)
- Инга Бойцова - Мой мен
- Валентина и Евгений Серебренниковы - Мон тодам ваисько
- раф - И только ты и только я.... И только здесь будем вместе навсегда... Растопим мы осколки льда.... Держи меня, не отпускай... Я лишь твоя ты всегда об этом знай... Ты пылкий ангел, нежный рай... Живу тобой... НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙ!!!
- В Смысле Осетия Number One - Я с тобой гуляла_2
- ТТ34 - Дом, который построил Джек (учим скороговорку(!))
- Kygo - Nothing Left (feat. Will Heard)
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 1
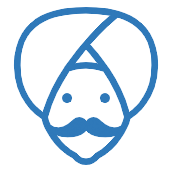 Гуру Песен
Гуру Песен