Осип Мандельштам - "Кассандре" (Анне Ахматовой) | Текст песни
Твоих, Кассандра, губ, твоих, Кассандра, глаз,
Но в декабре торжественного бденья
Воспоминанья мучат нас.
И в декабре семнадцатого года
Все потеряли мы, любя;
Один ограблен волею народа,
Другой ограбил сам себя...
Когда-нибудь в столице шалой
На скифском празднике, на берегу Невы
При звуках омерзительного бала
Сорвут платок с прекрасной головы.
Но, если жизнь - необходимость бреда
И корабельный лес - высокие дома, -
Я полюбил тебя, безрукая победа
И зачумленная зима.
На площади с броневиками
Я вижу человека - он
Волков горящими пугает головнями:
Свобода, равенство, закон.
Больная, тихая Кассандра,
Я больше не могу - зачем
Сияло солнце Александра,
Сто лет тому назад сияло всем?
От этого человека-одиночки, оказавшегося среди волков, тянется ниточка к тому знаменитому стихотворению 1931 года, в котором появляется «век-волкодав» и дважды повторяется признание: «Но не волк я по крови своей».
Ритмически выделенные Мандельштамом слова «свобода» и «закон» побуждают вспомнить о пушкинской оде «Вольность», написанной в 1817 году. Не удивительно, что уже в следующей строфе упоминается «солнце Александра», то есть Пушкина, великого предшественника. Стихотворение Мандельштама профетическое; в нем предугадано и будущее той, к кому оно обращено, — Ахматовой-Кассандры. В последней строфе стихотворения — предвидение тех событий, что придется претерпеть Ахматовой: запрет на печатание ее стихов, череду арестов ее сына Льва Гумилева, оскорбления и унижения — вплоть до постановления ЦК КПСС от 14 августа 1946 года и доклада члена Политбюро Жданова. Последняя строфа стихотворения — намек на судьбу пророчицы Кассандры: изнасилованная после взятия Трои греческими солдатами, она была отправлена в рабство в Микены и в конце концов убита. Поругание Кассандры символизирует для Мандельштама варварское посягательство новых скифов на искусство и красоту.
Ахматова, как она понимала себя сама, действительно близка к образу Кассандры - троянской прорицательницы, дочери Приама. Первым такое сходство отразил в стихотворении 1917 года Осип Мандельштам, но образ Кассандры как вестницы несчастья был близок Ахматовой.
Ещё в письме Штейну от 2 февраля 1907 г. Аня Горенко писала о себе: "Я убила душу свою, и глаза мои созданы для слез, как говорит Иоланта. Или помните вещую Кассандру. Я одной гранью души примыкаю к темному образу этой великой в своем страдании пророчицы. Но до величия мне далеко".
Уже в 1910-х, что отразилось в её стихотворении 1915 года «Нет, царевич, я не та…». Действительно, многие строки Ахматовой выглядят пророческими, например знаменитое стихотворение 1914 года «Уединение» («Так много камней брошено в меня…»), написанное за 32 года до Постановления ЦК и «Клевета» (1922), написанная за год до начала негласного запрета на появление стихов Ахматовой в печати.
В первую революционную зиму Ахматова станет для Мандельштама важнейшей собеседницей. Акмеистическое чувство близости друг к другу («мы»), возникшее в 1912–1913 годах, возобновляется и переходит в осознание их общей судьбы; их поэтическая солидарность и дружба крепнут. Как раз в 1917 году Ахматова выпускает свой третий поэтический сборник «Белая стая».
Осип Мандельштам еще тексты
Сейчас смотрят
- Осип Мандельштам - "Кассандре" (Анне Ахматовой)
- Лагерные песни"Бригантина" - Милая моя
- угадай кто) - Because of you.....
- Сколот - Кузнецы - колдуны
- Andriy Kordiuk RMX - Король и Шут - Прыгну со скалы
- Владимир Высоцкий - Жертва телевидения (фрагмент)
- АРАЙ АРНАУ - Саулем
- Soundtrack | License To Kill - (James Bond 007) | Gladys Knight
- Неизвестный исполнитель - О моя Россия(патриотическая песня))))))
- Руслан Алехно - Яак Йоала (Подберу музыку)Один в один-3
Оценка текста
Статистика страницы на pesni.guru ▼
Просмотров сегодня: 2
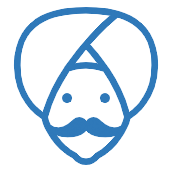 Гуру Песен
Гуру Песен